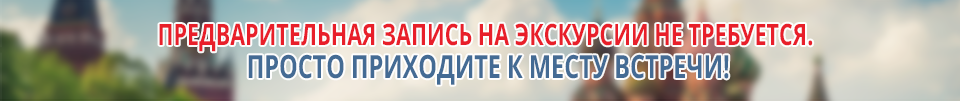
Смоленская площадь
История Смоленской площади – это прежде всего история московской торговли, существовавшей здесь задолго до появления площади. Возникновению торга способствовала не столько важная дорога на Смоленск, связывавшая Москву с Европой, сколько близость к Москве-реке, ведь до появления в нашей стране железных дорог именно реки служили главными транспортными артериями. Но если изделия мастеровых и ремесленников, а также съестные припасы традиционно выгружались на причалах у Москворецких ворот Китай-города, то у Дорогомиловской переправы швартовались барки с сеном, и сюда же плотогоны сплавляли по течению лес. 
Сноровистые мужики с баграми разбирали плоты и закатывали бревна на берег, на государев Щепной двор, где после сортировки лес пускали в продажу – на стройматериалы, на дрова и на щепу. Щепным товаром в старину называли изделия из древесины, от резных ложек и выточенных на токарном станке мисок до щепок-лучин (вариант освещения для тех, кому не по карману свечи) и собственно щепы (широких тонких пластин, которыми покрывали крыши изб и сараев). Деревянная церковь, построенная жителями этих мест в 1649 году, так и называлась – храм Николы на Щепах, а соседние с ней московские переулки стали зваться Николощеповскими. 
Судьба обычного московского рынка кормов и стройматериалов изменилась вследствие трагического события – страшной моровой язвы 1771 года, занесенной из Турции. Когда эпидемия отступила, унеся сто тысяч жизней, карантин был снят, и уцелевшая половина горожан смогла вернуться к прежним своим занятиям. Однако у городских властей обоснованно вызывала большие опасения торговля подержанными вещами и всяким барахлом: мало ли откуда эти они взяты, вдруг из зачумленных домов? Рисковать чиновникам не хотелось, поэтому продавать подержанные вещи разрешили исключительно по воскресным дням и только за пределами Земляного города. 
При отсутствии тогда других способов дезинфекции полагалось, вероятно, приносимые на рынок вещи окуривать дымом можжевельника, как это практиковалось во время «моровой язвы». Так или иначе, в последующие годы барахолка превратилась в оживленный московский рынок, что и не удивительно – между Арбатом и Дорогомиловом всегда существовало оживленное движение, а где есть прохожие да проезжие, там для торговца раздолье. В конце XVIII века были разобраны стены Белого города ввиду их ветхости и бесполезности для обороны; то же самое произошло и с укреплениями Земляного вала, окружавшего Москву по линии современного Садового кольца. 
Тогда и появились в Первопрестольной две длинных рыночных площади – Сенная и Смоленская. Первая из них тянулась на юг, до засаженного деревьями Зубовского бульвара, вторая – на север, к бульвару Новинскому. На Сенной площади торговали не только фуражом, но и древесным углем и сосновыми шишками для самоваров, а также дровами. Окруженная мастерскими и кузницами, лавками и питейными домами, чайными и трактирами Смоленская площадь в базарные дни заполнялась лотками букинистов, палатками меховщиков и телегами подмосковных крестьян, прямо с колес торговавших своей незамысловатой натуральной продукцией. 
В проходах теснилась прочая публика – одни, желавшие сбыть с рук что-либо ненужное или по крайней нужде продававшие свои последние ценности, и другие, готовые по случаю приобрести нечто полезное по сходной цене. В результате площадь бывала запружена народом так, что ни проехать, ни пройти. Желая водворить порядок на Смоленской площади, власти в 1875 году ассигновали семьдесят тысяч рублей на строительство крытого рынка, в котором предполагалось «допустить торговлю хлебным, мясным, рыбным, молочным, фруктовым, зеленным и грибным припасом, а равно и другими съестными товарами, простонародными лакомствами, сбитнем и квасом». 
Осуществил постройку архитектор Лев Даль, сын известного писателя и ученого-лингвиста Владимира Ивановича Даля. Несмотря на то, что Лев Владимирович в годы своей практики занимался в основном строительством храмов и реставрацией памятников архитектуры, первый в Москве крытый рынок получился очень удачным и совершенным настолько, насколько позволяли тогдашние технологии. В служебных помещениях были устроены отхожие места с кранами для мытья рук; асфальтовый пол с дренажными канавками позволял регулярно производить мокрую уборку. Ощипывать птицу и забивать скот здесь запрещалось, поэтому не было запаха гниющих отходов. 
Каждая лавка имела в подвале ледник, через специальные люки загружавшийся привезенными с реки блоками льда. По мере того, как лед постепенно таял, вода уходила в грунт – для этого полы в подвале выложили кирпичом в елочку без извести. Как ни странно, арендовать лавки в таком «цивильном» месте поначалу никто не рвался. Но чиновники городской управы оказались людьми смекалистыми – организовали утечку информации: якобы торговые места будут сдаваться по тем ставкам, какие предложат арендаторы. Желающих набежало столько, что уже не составило труда центральные места сдать по двести рублей в год, а боковые – по сто. 
Вскоре торгующих стало больше, потому что потребовалось место для постройки Политехнического музея, и городская управа ликвидировала находившиеся по обе стороны Ильинского проезда яблочные балаганы. Торговали там не только яблоками, но также рыбой, мясом и бакалейным товаром. Вся эта коммерция переместилась на Смоленку, и площадь вновь заполнилась торговыми рядами – причем увеличение числа торгующих привело к снижению цен, и эту приятную новость «сарафанное радио» разнесло по Москве. Рынок процветал долго. Даже в годы Первой мировой войны здесь с рассвета до заката кипела жизнь – правда, к ней уже примешивались краски нового времени. 
Рынок окрестили «Смолегой» беспризорники арбатских переулков, чьи матери выбивались из сил, стараясь прокормить семью в отсутствие отцов, сгинувших на германском фронте. Малышня приловчилась клянчить или втихаря тащить, что плохо лежит, а подростки «тырили на шарап» – то есть, выбрав жертву, набрасывались все разом и мгновенно разбегались, унося кому что досталось. Появились группы товара, купить который можно было только «из-под полы» – например, водку после введения сухого закона. Привозившие муку и сало деревенские мужики свою продукцию уже не продавали за «керенки», а либо обменивали на промтовары, либо отдавали за николаевские червонцы. 
Установление диктатуры пролетариата поставило вне закона торговлю как таковую. Теперь она квалифицировалась как спекуляция, поэтому рынок перешел в режим меновой торговли. Зато рядом с рынком, напротив Проточного переулка, новая власть установила памятник вождю французских социалистов. Как и большинство монументов, воздвигнутых к первой годовщине революции, памятник Жоресу простоял недолго. Но даже и в те дни, когда под самым носом у проповедника «социальной ненависти» представители антагонистических классов мирно обменивались своим добром, вряд ли здешняя публика хоть что-нибудь знала о личности Жана Жореса. 
Княжна Екатерина Александровна Мещерская писала в своих воспоминаниях: «Мы, потеряв все те богатства, которыми обладали, считали себя безнадежными нищими. Кроме того, дни летели головокружительным вихрем, все ломалось, призрак голода стоял над страной, никому не нужны были безделушки, в них и толка никто не понимал. Ценностью были хлеб, пшено, сахар, масло... Ювелирные украшения негде и некому было продать. В те дни рояль меняли на мешок пшена, и питались только те люди, у которых уцелела лишняя обувь, лишняя одежда, вещи домашнего обихода и отрезы материалов. На все это можно было выменять сахарин, патоку и какую-нибудь крупу». 
Трудно удержаться, чтобы не процитировать еще один фрагмент: «В Москве дома не топились. Не было электричества. Уборные в домах не работали. Сероватого пайкового хлеба выдавали очень мало – величиной не более двух сложенных вместе спичечных коробков. Он наполовину состоял из изрубленной соломы, которая не пережевывалась, раздражала язык, царапала небо, и ее то и дело приходилось выплевывать. Но и этот хлеб выдавали не всем. Моей матери, княгине, и мне, княжне, никакого хлеба не полагалось. Слово «лишенцы» тогда еще не придумали. Нас просто называли «чуждым элементом» или еще того хуже – «классовыми врагами». 
Переход от «военного коммунизма» к «новой экономической политике» оживил страну, словно ее подключили к огромной динамо-машине. Оказалось, что народ российский, если его грабить не сильно, а в меру, бывает смекалистым, оборотливым и даже работящим. Потребительские кооперативы и артели, а также кустари-одиночки производили, кто что умел – от одежды и обуви до пива и гвоздей. И хотя распределение природного сырья оставалось полностью в руках пролетарского государства, частники и «нэпманы» управлялись и без его помощи, открывая столярные мастерские и литейные цеха, зубоврачебные кабинеты и коммерческие рестораны. 
Недаром же у Ильфа и Петрова «Ипполит Матвеевич повез Лизу в «Прагу», образцовую столовую «Московского союза потребительских обществ» – «лучшее место в Москве», как говорил ему Бендер. Правда, уездному предводителю команчей не удалось ослепить Лизу широтою размаха – но уж никак не по вине кооператоров. Получив от Лизы удар кулачком в нос, «он долго плакал и, еще плача, купил у старушки все ее баранки, вместе с корзиной. Он вышел на Смоленский рынок, пустой и темный, и долго расхаживал там взад и вперед, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена». Наутро концессионеров ожидало фиаско на аукционе Главнауки, а на Смоленке ничего не изменилось. 
И если уж завершать рассказ о рынке еще одной цитатой, то пусть это будет Михаил Афанасьевич Булгаков: «Василий Рогов находился при начале Новинского бульвара, у выхода со Смоленского рынка… От Арбата до Новинского стоял табор с шатрами. Восемь гармоний остались в тылу у Василия Рогова, и эти гармонии играли разное, отравляя душу веселой тоской. От Арбата до первых чахнувших, деревьев в три стены стоял народ и торговал вразвал чем ни попало: и Львом Толстым, босым и лысым, и гуталином, и яблоками, штанами в полоску, квасом и Севастопольской обороной, черной смородиной и коврами. Если у кого деньги, тот чувствует себя, как рыба в море, на Смоленском рынке».
Виктор Сутормин
|
Ближайшие экскурсии
Детская экскурсия по Александровскому саду и Красной площади Продолжительность: 1,5-2 часа Гид: Денис Дроздов Дата: 27 ИЮЛ в 14:30 
Тайны тверских двориков. Маршрут № 1 Продолжительность: 2 часа Гид: Денис Дроздов Дата: 27 ИЮЛ в 17:00 
Высоко-Петровский монастырь (с посещением собора XVI века и палат XVII века) Продолжительность: 1,5-2 часа Гид: Денис Дроздов Дата: 28 ИЮЛ в 14:00 |
Последние новостиВсе новости |
|||
|
Денис Дроздов написал статью в авторитетный журнал о нескольких зданиях Замоскворечья Денис Дроздов написал статью для «Московского журнала» о домах на Пятницкой улице, уцелевших в пожаре 1812 года 20 Июль 2024 |
Презентация нового путеводителя Дениса Дроздова в легендарном книжном магазине Денис Дроздов представит свою новую книгу «Пешеходные прогулки по центру Москвы» в магазине «Молодая гвардия» 02 Апрель 2023 |
Наш экскурсовод Татьяна Воронцова рассказала зрителям «Москвы 24» о съемках известных фильмов Программа «Тайны кино» телеканала «Москва 24» с участием нашего экскурсовода Татьяны Воронцовой 24 Октябрь 2022 |
Наш экскурсовод Денис Дроздов ответил на вопросы читателей книги «Большая Полянка» Денис Дроздов встретился с читателями в легендарном магазине «Молодая гвардия» на Большой Полянке 19 Сентябрь 2022 |
|
Покушение на Брежнева в 1969 году Боровицкой башне Кремля более пятисот лет. В XVII веке башня была переименована в Предтеченскую, но название не прижилось 30 Май 2024 |
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Большая Ордынка, 20) не может не впечатлять и не радовать глаз москвичей 30 Апрель 2024 |
Дворец Долгоруковых на Пречистенке Великолепный дворец Долгоруковых многие десятилетия являлся одним из самых роскошных строений улицы Пречистенки 30 Март 2024 |
Троицкая башня и звезды Кремля Построенная Алевизом Старым в начале XVI века Троицкая башня получила это название вскоре после воцарения Романовых по приказу Михаила Федоровича 30 Январь 2024 |
Последние фото- и видеоотчетыВсе фото- и видеоотчеты |
|||
|
|